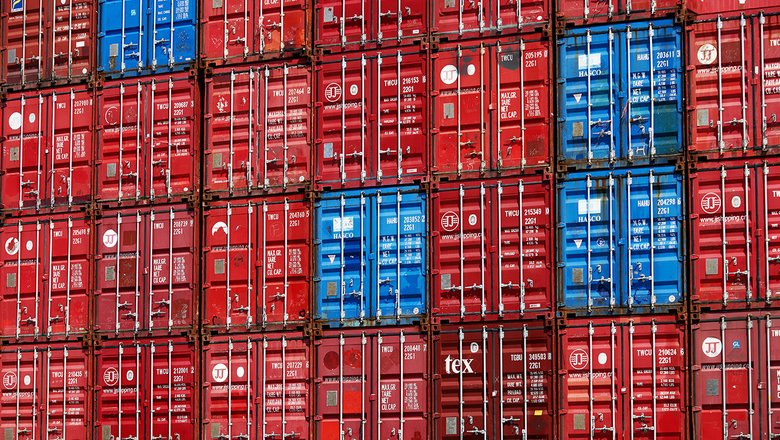
Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины шокировали всю мировую экономику. Обвал рынков стал крупнейшим с 2020 года, а экономисты предсказывают рецессию в глобальном масштабе. Аналитики обращаются к истории — знаменитому акту Смута — Хоули, принятому в США в 1930 году и приведшему к мировой войне тарифов. Почему был принят тот закон, действительно ли он повлек за собой Великую депрессию и в чем сходства и отличия тогдашней и нынешней ситуации — в материале «Известий».
Свобода с оговорками
В 1920-е годы США были самой быстроразвивающейся крупной экономикой мира. В то время как европейские государства переживали тяжелые последствия Первой мировой войны, Америка была мировым технологическим лидером. Электрификация и автомобилизация дали колоссальные темпы роста производительности (быстрее во всей истории был только рост производительности после Второй мировой), которые конвертировались в ВВП. Но процесс был несбалансированным: реальные зарплаты сильно отставали от производительности и общего экономического роста. Это и стало фундаментальной причиной биржевого краха 1929 года и последующего экономического кризиса.
Ключевой причиной проблемы был кризис перепроизводства. Американским товарам было и так тесно на рынке, но теперь из-за снижения спроса им приходилось конкурировать еще и с иностранной продукцией, которая пыталась найти себе место за океаном в условиях стремительно сжимающихся национальных экономик. В сложившейся ситуации конгресс решил действовать и огородить национальную промышленность и сельское хозяйство от конкуренции в условиях кризиса. Сенатор Рид Смут и член палаты представителей Уиллис Хоули предложили свой вариант резкого повышения пошлин, который успешно прошел обе палаты из-за доминирования республиканцев (хотя акт поддержали даже некоторые демократы). Естественно, всё было с санкции тогдашнего президента Герберта Гувера, который и шел на выборы 1928 года с программой повышения пошлин на сельскохозяйственную продукцию ради поддержки фермеров.
Надо сказать, что к тому времени говорить о свободной торговле между странами можно было с большими оговорками. В 1920-е многие государства всё еще приходили в себя от последствий Первой мировой войны и предпочитали защищать свою промышленность, а порой и сельское хозяйство, от внешней конкуренции. По сравнению с 1913 годом доля торговли в мировом ВВП упала на треть. В тех же США средняя ставка тарифа (для тех товаров, которые вообще подлежали пошлинам) после принятия закона Фордни — Маккамбера 1922 года достигала 40%. На конференции Лиги наций в Женеве в 1927 году финальное коммюнике призвало к отмене пошлин — за счет расширения международной торговли планировалось даже гасить намертво зависшие военные долги (их в итоге так и пришлось простить), но дальше благих пожеланий дело так и не пошло. Общий настрой во всем мире был на то, чтобы увеличивать пошлины. И США в этом процессе оказались застрельщиками.
На колени в Белом доме
Акт Смута — Хоули попал в конгресс еще до коллапса на биржах, а на фоне разверзшегося в октябре 1929-го кризиса дело пошло куда быстрее. В марте 1930 года акт был принят обеими палатами конгресса. В течение двух месяцев владельцы и топ-менеджеры крупнейших компаний Америки (в частности, Генри Форд) просили Гувера не подписывать документ. Некоторые, как директор JP Morgan Томас Ламонт, даже готовы были встать на колени. Но в конечном итоге их аргументы услышаны не были, и акт вступил в силу. В кратчайшие сроки ставки импортных пошлин в США поднялись сразу на 20 процентных пунктов (хотя ставки не фиксировались в законе — сенат мог изменять их по собственному усмотрению).
Авторы закона не учли тот факт, что США на 1930 год имели довольно заметный профицит торгового баланса. Соответственно, какую-то значимую выгоду от данного шага они могли получить только в случае, если ключевые торговые партнеры не приняли бы ответных мер. Как нетрудно было догадаться, ничего подобного не произошло. Многие страны Европы и Латинской Америки (в частности, Франция, Италия, Испания, Аргентина) установили свои пошлины. В некоторых начались бойкоты американских товаров. В мае 1930 года Канада установила тарифы на 16 видов товаров, составлявших около трети американского экспорта к северным соседям. Позднее заградительные пошлины начали вводиться европейскими государствами друг против друга.
В итоге, хотя США оградили свой рынок от иностранцев, а импорт упал почти вдвое, этого оказалось недостаточно, чтобы приостановить депрессию. ВВП страны в течение двух лет упал почти на 30%. Новый президент Франклин Рузвельт шел на выборы с лозунгом сокращения пошлин и выиграл гонку с убедительным превосходством. К 1934 году он получил полномочия устанавливать размеры тарифов президентскими указами — в обход конгресса.
В мировом масштабе всё было еще хуже. Международная торговля в 1930-е пережила крайне драматичное падение, сократившись почти на две трети, — что, справедливости ради, было вызвано не только тарифами как таковыми, но и общим сокращением американской экономики, уже в те времена явно крупнейшей в мире. К 1938 году она упала до 9% мирового ВВП. В некоторых странах Великая депрессия оказалась даже более тяжелым испытанием, чем в США, — в первую очередь потому что они были куда беднее, а как известно, «пока толстый сохнет — худой сдохнет». Трагедия коллективизации и массового голода в СССР также была связана косвенным образом с американской ситуацией. В итоге пошлины были сокращены и постепенно вернулись на уровень 1920-х годов, а после Второй мировой войны с подписанием генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ, предтечи ВТО) упали еще ниже.
Хотя тарифы не были первопричиной Великой депрессии, экономисты сходятся во мнении, что они ее усугубили, затормозив восстановление ведущих экономик мира. В 1930-е годы эти страны росли только за счет военных расходов и общего технического прогресса, но не благодаря расширению внутреннего спроса.
Отвыкли от пошлин
Ситуация почти вековой давности перекликается с нашими днями, но есть и множество существенных отличий, поэтому проводить параллели нужно с известной осторожностью. Начнем с того, что сейчас международная торговля имеет принципиально иные масштабы и значение для мировой экономики. Если в 1929 году она составляла 14% глобального ВВП, то к 2020-м годам выросла до 56%. Впрочем, эта доля достигла пика в начале 2010-х годов за 20 лет сверхбыстрой глобализации и с тех пор практически не растет. В США значение товарооборота с внешним миром тоже выросло — до 25% против 10% столетие назад. Это намного меньше среднемирового показателя (парадоксально, но США в силу размеров своей экономики страна, в сравнительно малой степени затронутая глобализацией), но всё еще очень существенно. Существует огромная номенклатура товаров, в первую очередь потребительских, производство которых разнесено по всему миру. И это означает куда более тяжелые последствия в случае разрыва производственных цепочек. В некотором смысле современная экономика более хрупкая и тонко настроенная по сравнению с более примитивной, но основательной экономикой первой половины прошлого века.
Второе ключевое различие состоит в том, что 100 с лишним лет назад пошлины в принципе были нормой. Какое-то время в США вообще не взимали внутренних налогов, обходясь исключительно тарифами как способом пополнять бюджет, — хотя и подоходный налог американцы также ввели одними из первых в мире. Если мы посмотрим на историю тарифных ставок, то последние 50 лет стали крайне нетипичными для Америки — в среднем пошлины составляют около 5%. Даже после отмены и снижения наиболее экстремальных тарифов, введенных актом Смута — Хоули, средняя ставка всё равно была в три раза больше нынешней. Экономика отвыкла жить в условиях внешнеторговых пошлин, и для нее заградительные меры могут стать немалым шоком. Администрация Байдена также вводила тарифы, но это делалось точечно (например, на электромобили). Всем придется в срочном порядке вспоминать прошлый опыт, но не факт, что наладка не потребует многих лет. В этом смысле ситуация также может считаться даже более опасной.
Третье различие в том, что если в 1920-х годах у США был торговый профицит, то сейчас, и уже давно, глубокий дефицит. В 1930 году тарифы вводились, чтобы защитить местного производителя от кризиса перепроизводства. Сейчас они вводятся для того, чтобы вернуть производство в Америку, сбалансировать торговое сальдо, а заодно и пополнить бюджет, решая фискальные проблемы. Соответственно, ущерб для торговых партнеров США может оказаться еще большим, чем 100 лет назад. В свою очередь, сама Америка встанет перед необходимостью очень быстро и почти с нуля создавать собственные производственные цепочки.
С другой стороны, есть два момента, несколько снижающих опасный драматизм ситуации. Речь идет о том, что если тарифы 1930 года были приняты в период Великой депрессии, когда экономика и так стремительно обваливалась, то сейчас она находится на неплохих показателях (по крайней мере в США). Поэтому катастрофического развития событий, скорее всего, удастся избежать. А кроме того, современные цепочки поставок являются невероятно гибкими и позволяют обходить пошлины, проводя импорт и экспорт через третьи страны. Это проявляется в том числе и в практической невозможности реализовать все санкции (например, против России).
Как бы то ни было, но резкие шаги администрации Дональда Трампа действительно имеют общее с тарифами, введенными в 1930 году, и эффект могут иметь сопоставимый. Хотя тренд на деглобализацию оформился еще в прошлом десятилетии, быстрые и необдуманные меры могут нанести тяжелый урон всему довольно хрупкому зданию мировой экономики.



